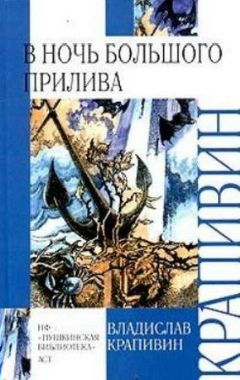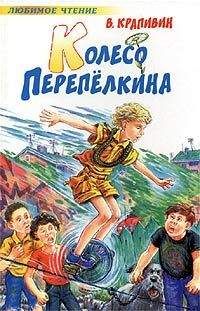Владислав Крапивин - Та сторона, где ветер [с иллюстрациями]
Это было просто смешно. Смешно думать о какой-то двойке по английскому языку, когда рядом, на улице Чехова, живет мальчишка, не видящий неба, облаков, солнца. И вообще ничего. Ничего. Ни малейшего проблеска света.
– Ничего… – сказал Генка и вдруг понял полную безнадежность этого пустого черного слова. Не было в этом слове даже самой крошечной, самой слабой искорки. Только непроницаемая тьма. Ничего и никогда…
Но как это можно?! Так не бывает!
Он попытался представить себя слепым. Он закрыл глаза. Но солнце просвечивало сквозь веки, и в глазах плавал яркий оранжевый туман. Тогда Генка прижал к ним ладони. Однако и сейчас в фиолетовой темноте плавали хороводы пестрых пятен.
Генка ждал. Медленно, нехотя одно за другим пятна стали угасать. Их было еще много, но они потускнели, растворились в сумраке. А фиолетовая тьма сгущалась и сгущалась. И вдруг, поглотив последние следы света, навалилась на Генку плотная и тяжелая чернота! Мгновенный страх резанул его: а если это совсем?! Генка раскинул руки с такой силой, что ссадил о железо костяшки пальцев. И солнце ударило по глазам жгучими и веселыми лучами.
– Ты что? – испугался Яшка.
– Ничего, – хмуро сказал Генка и стал слизывать с костяшек алые капельки крови.
Он успокоился. Он совершенно успокоился. Очень маленькими были его несчастья по сравнению с Владькиным горем. Стоило ли о них вспоминать? И Генка подумал, что сегодня же он с легким сердцем закинет учебник английского языка за поленницу.
Глава четвертая
Утром, около девяти часов, Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано, однако другого ничего не оставалось. В девять начинались занятия с Верой Генриховной, и Генка сказал матери и бабушке, что идет в школу. Белую бумагу, которую дал Шурик, пришлось свернуть по форме учебника и сунуть под мышку.
Калитка была заперта. Генка вздохнул и погремел тяжелым железным кольцом.
И сразу послышались быстрые и легкие шаги. Калитка звякнула щеколдой, отворилась, и Генка увидел Владика. Было на Владькином лице беспокойство и напряженное ожидание, вздрагивали брови.
– Вот, я принес бумагу, – поскорее сказал Генка, чтобы Владик сразу узнал его.
Брови перестали вздрагивать. Владик улыбнулся обрадованно и чуть растерянно. И словно застеснялся своей улыбки.
– Ты проходи, – заговорил он. – Калитку не захлопывай, ладно? Может быть, скоро папа придет. А калитку захлопнешь – сразу щеколда запирается. Каждый раз идти открывать… Это тетка наша придумала такую автоматику. Воров боится, что ли…
– Сама придумала, пусть сама и отпирает, – предложил Генка, потому что почувствовал: особого уважения к тетке у Владика нет.
– А она уехала, – сказал Владик. – На целых две недели. Мы здесь пока вдвоем… Ну пошли.
Он зашагал впереди по доскам неширокого тротуарчика. Доски пружинили, и Генке казалось, что они вот-вот подкинут Владика вверх на целый метр – таким он выглядел легким.
– Бумага помятая немного, – заговорил Генка. – Намочить придется, чтобы расправить.
Владик замедлил шаги.
– Намочить? Слушай, а я про это ничего не знаю. Разве она не порвется?
– Не порвется. Еще лучше потом натянется, когда высохнет. Ну, я покажу.
– Покажешь, правда? – быстро спросил Владик. – Ты не торопишься?
– Куда мне торопиться? – сказал Генка с чуть заметной досадой. – А я… не рано пришел?
– Ну что ты! Мы знаешь как рано встаем. Папе к восьми на работу.
Владик безошибочно вел Генку через длинный двор, мимо помидорных и морковных грядок, мимо парников, к небольшому кособокому сараю. А когда подошли, точным ударом ноги толкнул дверь.
– Подождешь минутку? Я тут винт ищу для наушника… Ты садись.
Полутьма сарайчика пахла сухими стружками и была прорезана солнечными щелями. Генка сел у стены на чурбак. По углам громоздились сломанные стулья, дырявые чемоданы и другая рухлядь, которую почему-то часто жалеют и не решаются сжечь. А у двери, на толстой березовой чурке, поблескивали слесарные тиски. Они были новые – видно, поставили их здесь недавно.
Владик сел на корточки перед большой картонной коробкой. Солнце из щелей сразу опоясало его тремя желтыми шнурами. В коробке что-то звенело: Владик на ощупь отыскивал винт.
Генка привстал.
– Какой винт? Давай помогу.
– Я сам… Ты тут и не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро.
И правда, он быстро нащупал среди мотков проволоки, гвоздей и гаек маленький шуруп. Из этой же коробки вытащил он и наушники на металлической дужке. Один наушник едва держался, и Владик стал его привинчивать. Шуруп входил в гнездо туго. Ногти у Владика побелели от напряжения. Он закусил губу и низко наклонил голову, будто хотел разглядеть упрямый винт.
Генка стоял рядом и мучился. Ему ничего не стоило закрепить наушник, но сказать об этом он боялся. Он знал уже, что Владик коротко ответит: «Я сам».
– Зачем они тебе, наушники эти? – безразличным голосом спросил Генка.
– Радио… слушать, – сказал Владик сквозь зубы, докручивая винт. Наконец закрутил, выпрямился и улыбнулся. – Знаешь, как с ними удобно! Включишь – и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газеты. И вместо книжек…
Генка почувствовал, что лицо его начинает гореть. Ладно, что хоть Владик не видит.
«Болтун несчастный!» – сказал себе Генка. И решил, что теперь ни одним вопросом, ни единым словечком не напомнит Владику о его слепоте.
– Я думал, что динамик лучше, – объяснил он. – Хочешь, я Шурке Черемховскому скажу? Он сразу сделает репродуктор, какой хочешь.
Владик поднял коробку, утащил ее в угол и ответил оттуда:
– А у нас приемник есть. Знаешь какой? «Восток-пятьдесят семь». Это как раз для него наушники. Они же лучше, чем громкий голос. Громкость папе мешает. Он вечерами сидит, сидит, занимается, чертит. А наушники ему не мешают.
– Он и днем и вечером работает?
– И ночью иногда… – вздохнул Владик. – Понимаешь, он такой инженер. По оборудованию. На судостроительном новый цех пускать должны, вот он там и хозяйничает. И ругается. Что-то не так построили. Станки не размещаются. Надо что-то пересчитывать там, он объяснял, да я не понял. Ну вот и сидит считает. Чертит.
Генка молчал. Когда заходит речь об отцах, каждый вспоминает своего.
Генкин отец никогда не работал дома. Ни по вечерам, ни днем. Ему нечего было делать в этом городе. Он уезжал работать в тайгу, где строили деревообделочные и бумажные комбинаты, и дома бывал не часто, наездами. В первые дни после приезда был он каким-то непохожим на себя: торопливый, возбужденный. Ходил в кино по три раза в день и требовал, чтобы Генка с мамой ходили с ним тоже. Это были самые хорошие дни. Отец навещал знакомых, звал к себе друзей, и комнаты наполнялись густым гулом веселых мужских голосов.
Через несколько дней отец успокаивался. С утра до вечера лежал на узком скрипучем диване и читал Генкины книжки про шпионов и моряков.
Генка приходил из школы, по давней привычке толкал под диван измочаленный портфель, потом садился в ногах у отца.
– Папа… – говорил Генка.
– Угу, – отвечал из-за книжки отец.
– Ты опять скоро уедешь, да?
– Видно будет, – говорил отец. Мусолил палец и переворачивал страницу.
– Не слюни пальцы! – пугался Генка. – Книжка же новая, мне ее Володька Савин дал на три дня, как только купил. Даже сам не читал.
– Ладно, не буду…
Генка вздыхал и спрашивал:
– Папа, ты в отпуску или в командировке?
– В отпуску.
– Ты ведь уже был в отпуску.
Теперь вздыхал отец. Он опускал книгу на грудь, несколько секунд молча смотрел на Генку и наконец четкими, раздельными словами давал объяснение:
– Я разбил месячный отпуск на три части. И еще взял неделю без сохранения содержания. То есть без денег. Ясно?
Это означало: «Отвязался бы ты и не мешал читать!»
– Ясно, – говорил Генка, но вдруг его охватывало беспокойство за отца. – А как там без тебя? Там же работа. Справятся там?
Диван раздраженно скрипел: это отец лежа пожимал плечами.
– Что я, пуп земли? Заместитель есть на участке. Потерпит десять дней.
– А тайга какая?
– О боже! Большая тайга, вековая, дремучая, густая! Волки, медведи, куницы, крокодилы!
– Крокодилов нет, – тихо говорил Генка.
Отец немного смягчался, и книга опять ложилась на грудь.
– Ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь… Там ты хоть человеком станешь.
Генка смотрел на длинное, с залысинами, отцовское лицо, на твердый раздвоенный подбородок.
– А сейчас я кто? – спрашивал Генка.